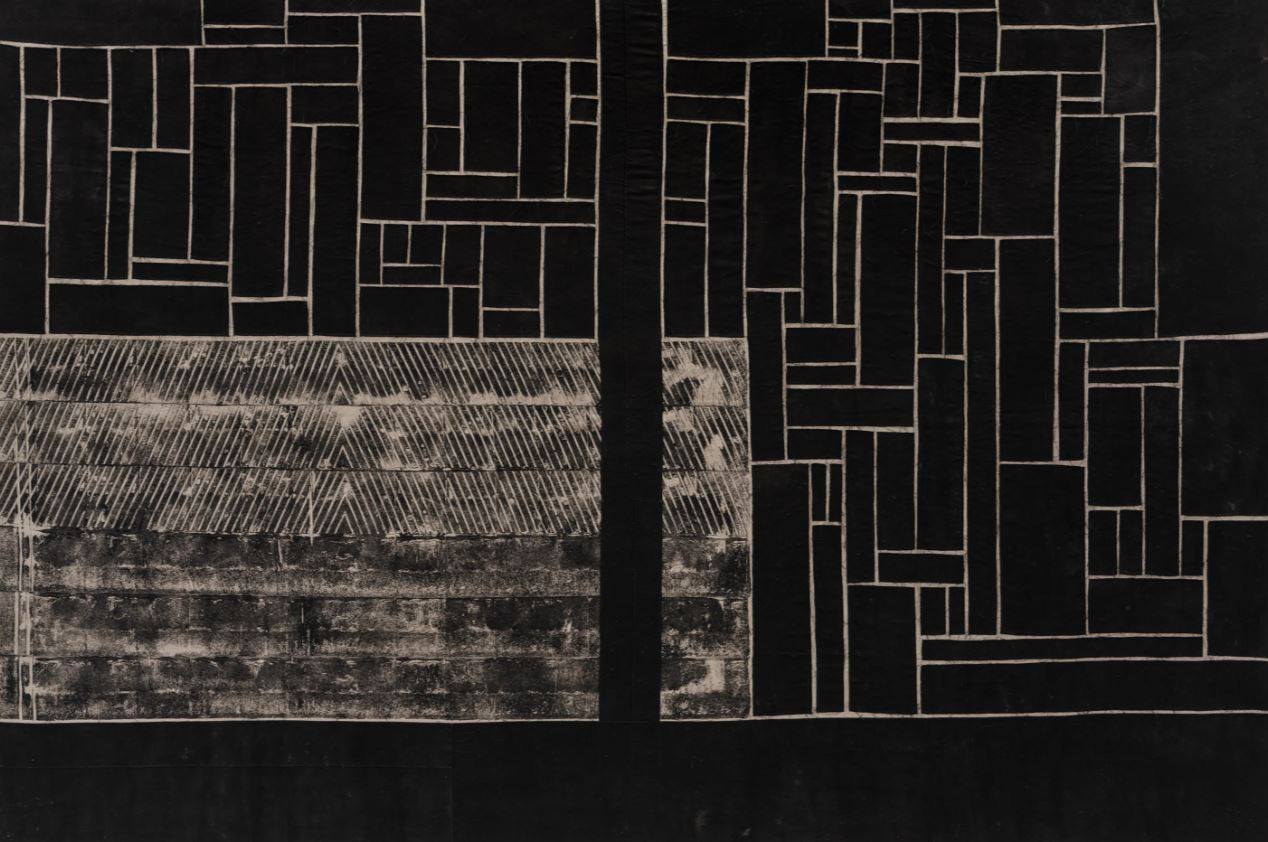Серия статей представляет собой перевод диссертации «Confronting the Shadow:
A Power Electronics Praxis» («Конфронтация с тенью: практика power electronics») от Майкла Бленкарна. Некоторые несущественные моменты (в частности, затянутое введение и выводы из диссертации) были опущены. К сожалению, подавляющее большинство источников, на которые опирается данная экзегеза, доступны только на английском языке — в нашей стране они не переводились. Повествование ведется от лица автора (Майкла).
Все остальные главы доступны в рубрике «Переводы» в соответствующей подкатегории.
Шум и психические заболевания
Шум в своей теоретической форме является абстракцией. Пол Хегарти в основном связывает его с нежелательным, неприятным звучанием, однако в более глобальном смысле шум представляет собой неизбежное условие взаимодействия с миром, условие его познания. Возможно, проще всего описать шум через его взаимосвязь с сигналом. В этом ключе сигнал — это ясная, однозначная информация, доступная каждому; функциональная, предсказуемая, стабильная, благоприятная, резонансная, созвучная.

Жак Аттали в книге «Шум. Политическая экономия музыки» говорит о сигнале в терминах кодов: коды для анализа, фильтрации и регулирования, а также для распределения и передачи власти. Шум, напротив, как негативное явление, подразумевает яркий и описательный язык, изобилующий списками эпитетов. Чтобы извлечь все потенциальные дескрипторы для шума, нам придется порыться в глубинах тезаурусов. Шум – это прерывание, нарушение, путаница, противоречие, разрыв, разлад, диссонанс, неопределенность, неясность, рассогласованность, загадочность. Шуму часто приписывают такие характеристики, как неконтролируемый, разрушающий, несовместимый, хаотичный, какофонический, иррациональный, нелогичный, необоснованный, тревожный, девиантный, трангсгрессивный, аномальный, аберрантный, неразрешимый, непонятный, дисфункциональный и нестабильный.
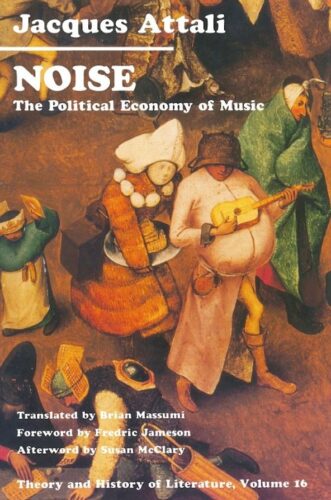
Границы сигнала и шума постоянно перечерчиваются, пересматриваются, подвержены бесконечному разнообразию интерпретаций и определяются только их отношением к своей противоположности в фиксированный временной отрезок: их невозможно «положительно, окончательно локализовать вне времени». Шум ускользает от дефиниций и сопротивляется онтологии; он перерождается, согласно Хайнджу, «с различными характеристиками в зависимости от особенностей исходного выразительного ансамбля». Таким образом, шум можно соотнести с абсурдом, согласно определению Камю: «Абсурд имеет смысл только в той мере, в какой с ним не соглашаются». Художественное выражение шума становится толчком к абсурдному творчеству. Современный академический дискурс вокруг шума является довольно живым, разнообразным и обширным, процветающим вследствие огромной свободы его интерпретации.

Артикуляция Аттали о шуме подпитывает эту позицию, формирующую прочный фундамент для специфической эстетики шума, которая резонирует с появлением индустриальной музыки: «Шум существует не сам по себе, а лишь в отношении к системе, в которую он вписан; излучатель, передатчик, приемник. [..] Шум всегда воспринимался как разрушение, беспорядок, грязь, агрессия против упорядоченных кодифицирующих сообщений».
В идеологическом смысле шумовая концепция Аттали связывает сигнал с подавлением и репрессиями, поскольку он обладает внушительной властью, а шум – с сопротивлением и вызовом этой власти, укреплением автономии и маргинальности. «Всюду, куда бы мы ни посмотрели, монополизация передачи сообщений, контроль над шумом и институционализация молчания остальных людей гарантируют устойчивость власти». В этой модели сигнал играет роль медиатора популярной культуры и политики, потенциально распространяющего заблуждения и стигмы, навязывающего ограничительные и негибкие модели социально приемлемых взглядов и поведения; шум становится витальной силой, ломающей эти границы. В менее идеологическом ключе дуалистическая модель сигнала и шума может быть использована для понимания здоровья и болезни; того разрушительного влияния, которое психическое заболевание оказывает на восприятие, познание и функционирование. В каждом из этих случаев дуализм пригождается для закрепления более тонкого, спектрального понимания, выявления гипотетических, разреженных абсолютов в континууме двойственности и различий – и это применимо как к дуализму сигнала и шума, так и к эмпатической, либеральной интерпретации психических заболеваний и здоровья. Активный процесс практической навигации по многообразному сигналу и шуму жизни – это феноменология психического заболевания в контексте данной работы. Этот опыт фундаментально субъективен; твой шум может стать моим сигналом и наоборот; мое здоровье – твоей болезнью. Шум оттеняет спорные края любого компромисса, любой социальной конструкции, которая сформировалась с целью общественной саморегуляции. Все это обеспечивает удобную перспективу для рассмотрения психического заболевания как социального явления. Его шершавые, изъеденные ржавчиной края демаркированы напряженными реакциями, суждениями и взглядами других людей.
Такая дуалистическая модель шума имеет и своих критических противников. В книге «Beyond Unwanted Sound: Noise, Affect and Aesthetic Moralism» Мари Томпсон оспаривает эту точку зрения, предлагая вместо нее «этико-аффективную» модель шума, которая является реляционной по своей природе и освобождает понятие шума от исключительно негативных коннотаций. В этой концепции шум больше не является только лишь нежелательным фактором, который следует устранить; он становится необходимой и неотделимой частью жизни, потенциальной трансформирующей силой в сложном и тонком взаимодействии между нами и огромным, порой непонятным миром. Я согласен с таким подходом, но в рамках данной работы я буду придерживаться дуалистической модели шума, поскольку я сопоставляю ее с такой же дуалистической моделью психических расстройств и здоровья; в дальнейшем я буду критиковать обе модели. Очень сложно сократить негативные качества психических расстройств, а потому использование понятия «шум» в данном ключе создает дополнительное расхождение с моделью Томпсон. Мое компромиссное решение – придерживаться дуалистической модели шума в рамках моего строго определенного фундамента. Впоследствии я еще коснусь этико-аффективной модели Томпсон.
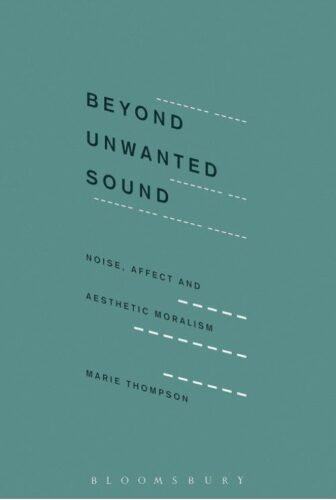
В рамках данной статьи я буду использовать термин «шум» в различных контекстах; при этом шум всегда будет являться некоторым дестабилизатором, протестным или саботирующим явлением в каждой конкретной ситуации. Языковые причуды, трактовки и тонкости интерпретации направлены на выявление врожденных, существенных качеств шума; мои доводы, идеи и аргументы – все это противостоит недостаткам языка. В идеологическом плане я симпатизирую утверждению Аттали о значении шума как средства сопротивления, но такое прочтение должно определяться контекстом дискурса. Как многозначный термин, я использую его с соответствующим разнообразием положительных и отрицательных коннотаций. Как и Аттали, я вижу в шуме прежде всего средство, позволяющее пробудить воображение читателя; однако я добавляю оговорку о том, что шум может также пробудить и различные дисфункции и заблуждения.
Модальности безумия
Спорное отношение между шумом в его дискурсивном смысле и шумовой музыкой как жанром и творческой практикой является предметом академических исследований (см. Хегарти, Хайндж, Новак). Большое внимание уделяется основополагающей мимолетности шума, его склонности к мутации и рассеиванию: «То, что считается шумом в одной точке, может быть музыкой или смыслом в другой». Несмотря на трансгрессивность и конфликтность шумовой музыки, вышедшей частично из индастриала, футуристов, musique concrète и ранней электронной музыки, ее субкультурная привязка к устоявшимся формам, а также характерность эстетики и практик позволяет выйти за рамки идеологического и философского контекста. Как показывает мой опыт, шумовые и power electronics музыканты заинтересованы в сенсорном насилии над слушателями; передача каких-то трансгрессивных идей является скорее манифестацией шума в душе, нежели погоней за абстрактными философскими идеалами. Возможно, стоит утверждать, что шумовая музыка – это не «шум-как-музыка», а «музыка-о-шуме»; такая градация может показаться чересчур педантичной, но я считаю ее необходимой для установления моей собственной точки зрения на уникальное положение шумовой музыки. Так я смогу исследовать явление шума и освободить творческие практики от очевидно бестолкового, провального преследования идеологической чистоты.

Под термином «шумовая музыка» я подразумеваю диаспорическое музыкальное поле, занимаемое такими разнообразными артистами, как Merzbow, Whitehouse и др.; музыку, которая одновременно фетишизирует шум и стремится вылепить из него нечто осязаемое, некоторую музыкальную форму, кристаллизуемую через взаимодействие артистов и слушателей. Это и бескомпромиссное индивидуалистическое смешение DIY-экспериментов и двусмысленности «индустриальной музыки» Throbbing Gristle, и исследовательская вседозволенность саунд-арта, musique concrète и электроакустики, и непредсказуемость свободной импровизации, выраженной через экстремумы громкости, тембра и частоты. Шумовая музыка включает в себя симулякры «шума-как-нежелательного-звучания»: пронзительные вопли, лязг металлических предметов, резкий микрофонный фидбэк, пульсирующий синтезаторный рёв, перегруженная электроника, звучащая на высокой громкости. Жанр силовой электроники (power electronics) сваривает эти материалы в примитивно структурированные, рудиментарные, сырые композиции. Такие звуковые особенности позволяют идентифицировать шумовую музыку в ее различных формах как урбанистическую музыку, преимущественно создаваемую и поддерживаемую условиями и возможностями города; первая глава данной экзегезы будет посвящена отношениям между шумом, современным городским ландшафтом и психическим здоровьем с учетом практики полевой записи (field recording) как стратегии автономного индивидуального сопротивления. Эти музыкальные модальности представляют собой вызов предписанному культурному status quo, каким бы он ни был.
На данном этапе важно четко определить, как эти жанровые термины – шумовая музыка, power electronics и индастриал – связаны между собой, в чем я вижу их перекрытия, где они проявляют себя как отдельные формы в рамках моей более широкой методологии. Power electronics часто описывается как поджанр индастриала и нойза; эти термины используются параллельно на протяжении всего моего текста. Я разграничиваю их (весьма условно) следующим образом.
Power Electronics – это форма экстремальной электронной музыки, сфокусированная на чрезмерных показателях громкости, частоты и тональности. Исполнители в этом жанре обычно используют синтезаторы, цепочки эффектов и фидбэки для создания основного саунда, который затем дополнительно усиливается; некоторые артисты ограничиваются только увеличенным микрофонным фидбэком. Жанровая характеристика Power Electronics формируется присутствием вокала (обычно кричащего) и своеобразного текстового контента. Этот человеческий элемент, помещенный в центр музыки, и ощущение структуры, которую он отражает, позволяют отделить Power Electronics от нойза; в остальном существует значительная звуковая и методологическая перекрестная связь. Типичное произведение в жанре Power Electronics представляет собой статичный мотив (петля или синтезаторная линия), не меняющийся на протяжении всей композиции; вокал накладывается на этот мотив; иногда используется даже прием «куплет/припев». В моем понимании слово «Power» в описании жанра демонстрирует упадок власти в социальных отношениях и тематическую фиксацию на крайностях, излишествах.
Нойз сложнее определить как жанр. Когда я использую это понятие для описания своего опыта, я имею в виду конкретную музыкальную культуру; шум, преимущественно генерируемый с помощью портативной электроники; сложные сигнальные цепи электронных устройств, используемых для обработки внешних звуковых источников (голоса, объектов, записей); обратные сигналы, спонтанно генерируемые в системе аудиокабелей фоновыми токами. Подобная модальность шумовой музыки тесно связана с японскими артистами, такими как Merzbow, и она нелегко уживается с философскими определениями шума. Моя интерпретация modus operandi для данного типа музыки заключается в следующем: артисты намеренно создают электронные системы, функционирующие нестабильно и непредсказуемо; тем самым они демонстрируют частичную потерю контроля над звучанием, частичную потерю авторства, предпочитая оставаться в стороне, случайным образом вмешиваясь в эти системы и интуитивно настраивая управляющие элементы. Мари Томпсон описывает этот подход как «полный шум» и точно замечает, что такая модель практик «приобретает консерватизм». Томпсон настоятельно и убедительно аргументирует против фиксации на этой базовой форме шума-как-музыки, и в своей монографии «Beyond Unwanted Sound» рассматривает обширную диаспору связанных, но более разнообразных, разрозненных практик. В то время как использование текстур шумовой музыки полностью соответствует описанию «полного шума», приведенному выше, важно признать за ним и более широкий контекст.
Индастриал как музыкальный жанр тоже сложен в определении. «Assimilate: A Critical History of Industrial Music» С. Александра Рида демонстрирует огромный объем и богатство интерпретаций, которые порождает термин «индастриал» — начиная от субверсивных арт-экспериментов Throbbing Gristle до абразивных сенсорных близзардов Whitehouse и дистопических танцпольных битов Skinny Puppy. Вкратце, «индастриал» нестрого описывает разнообразную группу практик электронной музыки, связанных общей дистопической эстетикой и стремлением к субверсии. Заимствуя выражение Тима Ингольда, свойства индастриал-музыки – это «не атрибуты, а истории». В контексте моей практики «индастриал» прямо используется как обобщающий термин для всех спорных периферий Power Electronics и Noise.
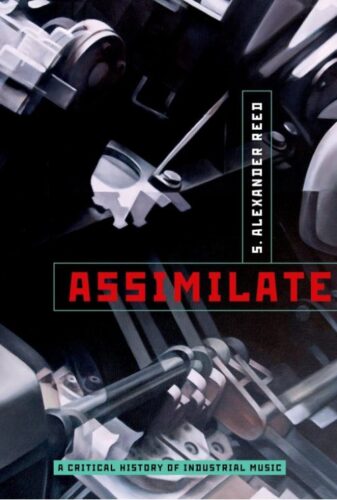
Давайте я проиллюстрирую пересечение этих жанровых характеристик на простом примере. К примеру, возьмем трек «Cephalophore I» группы Augure Concret — в нем используются элементы Power Electronics (базовый синтезаторный тон, громкий вокал с характерными текстами), Noise (импровизация с использованием серии усилителей и обработанных сигналов от металлических объектов) и Industrial (слой обработанных оркестровых сэмплов). Последний описан как Industrial, поскольку, пусть он и не типичен ни для Power Electronics, ни для Noise в ортодоксальном смысле, его нередко применяют разные артисты (к примеру, Prurient или Grunt) на периферии жанра и в других сферах электронной музыки. Я рассматриваю получившуюся смесь в первую очередь как Power Electronics вследствие значимости вокала в композициях и их ориентации на содержание.
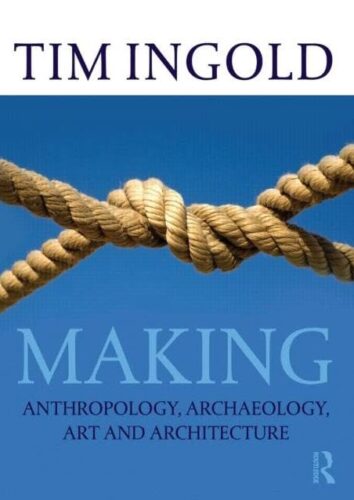
Принятая ортодоксальность музыки Power electronics является передатчиком личной одержимости, приговором власти, вызовом слушателям за счет своей двойственности. Аттали мог бы иметь в виду Power electronics, постулируя следующее: «Музыка – наслаждение зрелищем убийства, формирование симулякра, замаскированного под фестиваль и трансгрессию – создает порядок. Всякое человеческое произведение в некотором роде является посредником и дифференциатором между людьми, а потому может быть и каналом насилия». Power electronics нередко использует материал, вызывающий сильный дискомфорт, отвращение и отторжение. Эта музыка использует образы, разрушающие социальную приемлемость, обычно без квалификации такой презентации. Самые мрачные и ужасающие проявления человечества, его способность к жестокости и нанесению физического и психологического вреда, раскрываются на этом поприще. Из-за этого многие считают Power electronics эксплуатационным, похотливым, аморальным и дегенеративным искусством; дешевой возбуждающей и шокирующей тактикой. Это чрезвычайно упрощенное и поверхностное понимание жанра. Подробнее об этом будет в третьей главе. На данный момент я просто повторю слова Дэвида Кинана в его описании искупительных качеств этих форм:
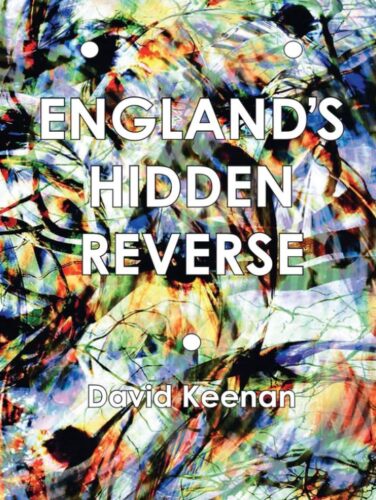
Индастриал и, в конечном счете, нойз, даруют спасение. Они представляют безжалостное погружение во тьму нашего эволюционного прошлого, во тьму наших слепых сексуальных порывов, во мрак наших скрытых ужасов и страхов, в мертвенную жестокость нашего повседневного существования; они помогают взглянуть в глаза этим страхам, не отрицая и не цензурируя их. […] И, как и в мифе, когда богиня красоты, любви, войны и секса Иштар возвращается из подземного мира, возможно, мы сами, люди, сможем высечь эту искру красоты, надежды и бесстрашия из наших собственных темных душ.
Power electronics предлагает креативный, аудиальный способ встретиться лицом к лицу со всеми этими трансгрессивными, жестокими жизненными аспектами, не опасаясь ни критики, ни осуждения. Осознанное отсутствие моральных основ в музыке — это вызов для собственной моральной неприкосновенности слушателя, на который можно ответить только своей врожденной моральной позицией. Этот процесс позволяет узнать больше о себе и столкнуться со сложной и противоречивой природой человеческого разума, отбросив какие-либо предубеждения. Практика power electronics позволяет мне создавать такие ситуации для себя и других, принимать определенные идеи или взгляды и инсценировать их разбор. Эта функциональность и связь жанра power electronics с шумом делает его идеальным средством для достижения моих исследовательских целей, изучения моих собственных мыслей и предустановок относительно психического здоровья.
Эмерджентность
Из текста выше становится ясно, что в этом исследовательском проекте используются материалы и размышления из разных областей знаний и дисциплин. Работа многоаспектная, она не подчиняется какой-то дискретной методологии или определенному стилю изложения. Отстраненное, безучастное академическое изложение здесь совершенно не подходит, учитывая личностный, саморефлексивный характер изучаемого предмета и его представление через интенсивную эксцентричную форму творческих практик. Дискурс стремится к четкости, но эта четкость определяется практическим содержанием и средствами, с помощью которых я могу лучше объяснить предмет, а не академическими конвенциями. В рамках моей экзегезы я часто использую язык звучания — наряду с текстурными измерениями, призванными испытать устойчивость барьера между письменным материалом и практикой; рефлективная проза переплетается с цитатами из художественных произведений, философии, социальной политики и психогеографии. Значительное вдохновение для этого я черпаю у Иэна Синклера и Джонатана Рабана, двух писателей, чьи углубленные эзотерические интерпретации городского пространства и символическая сублимация обыденных объектов и возможностей помогли сформировать современную ветвь городской литературы. Их пример вдохновил меня перемещаться в своих исследовательских и умозрительных направлениях без цензуры, позволяя исследованию органически развиваться без каких-либо препятствий.
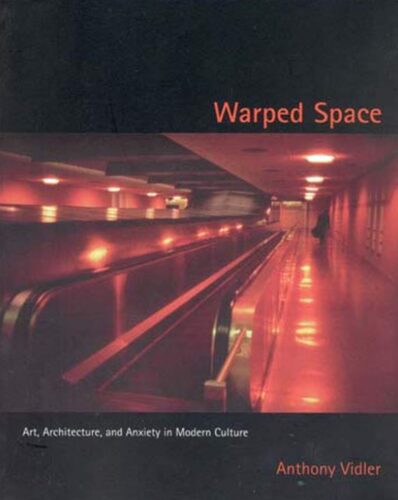
Для описания этого обманчиво мягкого подхода к письменным исследованиям был придуман целый ряд речевых оборотов. Изучение широкого спектра разных дисциплин подсвечивает, проявляет эти обоснования, как показывает следующая подборка цитат. Энтони Видлер в своей книге «Warped Space», которая представляет собой исследование городской тревоги и страха через призму искусства и архитектуры, начиная с эпохи Fin de siècle, описывает свой подход как «вид промежуточного искусства»; объекты, принадлежащие к одной среде, требуют интерпретационных терминов из других дисциплин для своего объяснения и представления. Другим привлекательным термином, описывающим данный подход, является «текстовая гибридность». Ричард Куинн замечает: «Преимущество этого гибридного языка заключается в большей чувствительности к текстам, требующим многократных толковательных подходов. Гибридный дискурс может повторять контуры текста, который ‘передается на частотах выше или ниже диапазона чтения’, полагаясь на знаковый звук и индексный язык». В своем «Декалоге» чешский сюрреалистический режиссер Ян Шванкмайер язвительно и конфронтационно защищает самоопределяемые автономные методологии, что до некоторой степени напоминает ярость современных сторонников power electronics (и это сходство будет детально рассмотрено в третьей главе).
«Помните, что существует только одна поэзия. Противоположность поэзии — профессиональное мастерство. […] Полностью отдайтесь своим страстям. В конце концов у вас все равно нет ничего лучшего. […] Воображение разрушительно, поскольку оно противопоставляет возможное реальному. […] Принципиально выбирайте темы, к которым у вас неоднозначное отношение. […] Пусть творчество станет вашим средством самотерапии. […] Если у творчества есть смысл, то только в том, что оно освобождает нас. […] Никогда не позволяйте вашему произведению искусства служить чему-либо, кроме свободы»
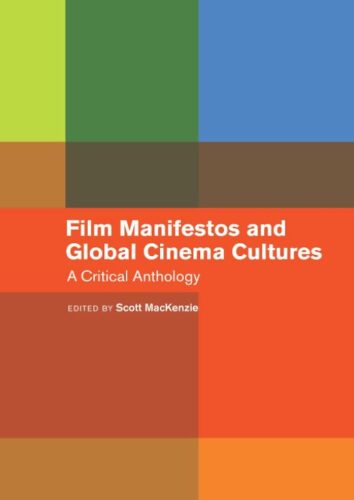
Однако формулировка, которую я считаю наиболее подходящей и взвешенной – это постмодернистская эмерджентность, определяемая Сомервилем следующим образом:
«Онтология становления, а не бытия (Гросс, 1999), которая подчеркивает иррациональность, хаотичность, воплощение и развитие зреющего ‘Я’. Она отталкивается от эпистемологии альтернативных практик репрезентации и расширяет концепцию ‘написания как метода исследования’ (Ричардсон, 1994) до новой теории репрезентации».
Все эти источники влияют на подход к написанию моего исследования, однако, возможно, ключевым словом здесь будет «эмерджентность». Дискурс, представляемый мною, свидетельствует о намеренно широком, умозрительном подходе, из которого рождаются идеи, направляющие исследование к своей цели. Как уже упоминалось ранее, поскольку практический компонент работы является ее «мотором», а не конечным продуктом per se, логично, что буду придерживаться любых направлений и стилей, которые позволят мне проникнуть в суть и раскрыть глубинные механизмы исследуемых явлений.
Этот процесс прошел не без фальстартов, cul-de-sac и существенных исключений из экзегезы в целом, по мере того как я постепенно приводил ее к текущей форме. Включение вопросов социальной политики в целом и истории ментального здоровья в частности помогли закрепить наиболее причудливые крайности, возникшие в процессе написания, сохранить фокус и серьезность исследования, не лимитируя его структуру и подходы. Включение работ Юнга является ярким примером неожиданной эволюции работы в середине процесса, что помогло объединить различные области знаний.
Юнг в сердцевине повествования
Карл Густав Юнг является одной из самых влиятельных фигур в психологии, «важнейший раскольник в истории психоанализа». Бывший протеже Фрейда, Юнг решительно отвернулся от жестких ортодоксальных учений своего наставника, чтобы прокладывать свой собственный путь в психоанализе. Юнг продуктивно работал над формированием сложных моделей самости, ее становления и процесса индивидуализации, при котором самость становится актуализированной. В ходе этой работы он погрузился во множество культурных эзотерических знаний, таких как алхимия, оккультизм, мировая мифология; он собрал изображения, концепции и фрагменты для глубокого исследования своих идей. Символизм остается одной из основных моделей юнгианского подхода, и я буду подробно обсуждать эту и другие ключевые модели, проработанные Юнгом, в моей экзегезе.
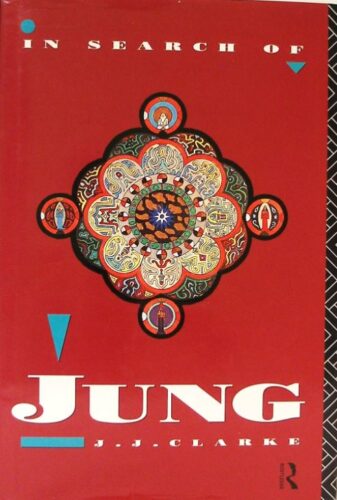
Склонность украшать свои теории мифопоэтическими излишествами и аллюзиями стала тем фактором, который вызывал противоречия у его критиков; многие считали этот фантастический аспект его письма неясным и в целом ненаучным. Однако Юнг настаивал на том, что эти элементы являются необходимыми «посредниками»; динамичные, созерцательные описания прозаических аспектов разума, позволяющие выявлять радикальные и иначе недоступные парадигмы. Я полагаю, что на более простом уровне эзотерика подпитывала его энтузиазм, позволяя интегрировать широкий спектр личных интересов в его работу, превращая психиатрию в «родную гавань для всех переплетающихся областей его интересов, в творческое поле для их синтеза».
Это синтез, явно задуманный для «введения возможности трансформации, выходящей за пределы простой трансмутации или сублимации симптомов». В этом есть элемент скрытой абсурдистской прерогативы (хотя Юнг предшествовал Камю в некотором смысле), заметной также в работах Иэна Синклера; эклектическое празднование тайного, мистического и контринтуитивного, основанное на простом признании абсурдности мира. Эта прерогатива очевидна в моем собственном дискурсе; включение материалов Юнга – признание данной методики и того факта, что Юнг сам стал частью эзотерического культурного ландшафта, на который он опирался.
Мое использование идей Юнга как увеличительных стекол вовсе не означает полного поддержания его творчества; я оперирую лишь ключевыми разделами и рефлексивно интегрирую их в свои творческие практики, чтобы порождать новые идеи и взгляды для исследования. Бесцельное и контрпродуктивное погружение в сложную и объемную коллекцию идей Юнга может отклонить нас от основной цели. Более того, я не выражаю безоговорочную поддержку личности Юнга. Его антисемитизм и устаревшие взгляды на женщин, людей неевропейского происхождения и т.д. продолжают вызывать враждебность и пятнают его взгляды в глазах многих исследователей. При изучении мыслителей, удаленных от нас как культурно, так и по времени, важно предлагать контекст и делать ремарки.
Подобно самому Юнгу, я применяю метод сбора различных идей и использую их так, как мне видится нужным. Вероятно, главный аспект работы Юнга, который позволил ей так удачно и непринужденно вписаться в мое исследование, заключается в ее текстовой гибридности и эклектике. Постъюнгианский психолог Самуэлс говорит о «самоопределяющемся намерении», которое продуктивно обрабатывает противоречия, возникающие из множества критических точек зрения, и направляет их под индивидуальную авторскую цель. Эта субъективность и автономность практикующего полностью соответствует подходу Юнга к мышлению, явно предвосхищая модель постмодернистской эмерджентности. Более того, Юнг ценит эту субъективность как средство, с помощью которого люди могут культивировать позитивные изменения в мире; эта предпосылка является ключевой для моей собственной работы, о чем я расскажу в последующих разделах.
Юнг считал, что проблемы, подобные тем, с которыми мы сталкиваемся сейчас, никогда не будут решены законами, войнами или даже масштабными социальными движениями. Он отмечал, что наши самые тревожные и мучительные человеческие проблемы ‘решаются только общим изменением отношения к ним. И изменения не добиться путем пропаганды, массовых собраний или насилия. Оно начинается с изменения в отдельных людях… И только накопление таких индивидуальных изменений приведет к коллективному решению. […] Учитывая масштаб разрушений окружающей среды и человечества, сосредоточение на индивидуальном изменении – с его побочными эффектами от всех взаимодействий – кажется более здравым и перспективным, нежели уверенность в том, что существует какое-то массовое решение или идеал, легко навязываемый другим’.
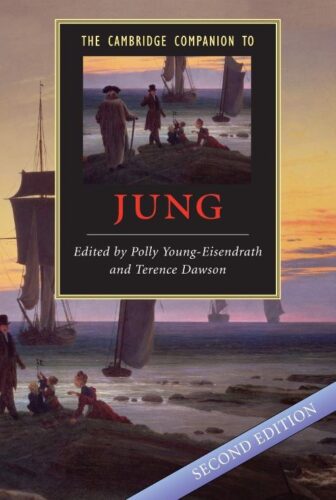
На ранних этапах моего проекта я не планировал включать Юнга. Он сам как-то проскользнул. Раскольник, как всегда. Я тогда съездил на заброшенный завод по выплавке свинца в Элсвике и записал огромное количество звуков для использования в своих новых композициях. Я размышлял над различными семиотическими и символическими пермутациями свинца, чтобы сформировать некоторые базовое идеи и стимулировать свой композиторский процесс. Также я задумался над лучшим способом применения этого материала к теме психических заболеваний, чтобы добавить ценности проекту. Одной из первых ассоциаций была алхимия. Это и открыло двери к Юнгу посредством его использования алхимической терминологии к описанию психологической трансформации. Что может быть лучше? Небольшое чтение по данной теме незаметно вызвало своего рода юнгианский «оползень», когда идеи Юнга постепенно просачивались в проект и органично закреплялись в его уголках. Такая вот прекрасная синхронная случайность, так любимая творческими деятелями, позволяющая раскрыть проект, дать ему расцвести. Я не претендую на компетентность его работ – я просто интегрировал его ключевые понятия в свое исследование, восхищаясь тем, насколько полезными они оказались для меня. При этом цитаты из его творчества заняли сердцевину моей диссертации, подсветив ее ключевые идеи. По этой причине вполне уместным будет перейти к основному дискурсу в этой поворотной точке для проекта; представим себе день полевых записей на заброшенном свинцовом заводе в Элсвике.